Влад короткий
Аполлоническое и дионисийское начала
Говорим о "Рождении трагедии из духа музыки" и пытаемся понять, какое место идеи Ницше занимают в двадцать первом веке
Наследие Ницше
Что мы в первую очередь вспоминаем, говоря о Фридрихе Ницше? Кто-то скажет о "Воле к власти", кто-то о женоненавистничестве, кто-то о его безумии, а многие вообще вспомнят идею сверхчеловека. Все эти элементы органично вписываются в общее представление о фигуре Ницше, но есть элемент, который, возможно, в большей мере повлиял на практику исследований культуры, чем другие. Я говорю о "Рождении трагедии из духа музыки" - одном из ранних произведений философа, подарившем нам идею дионисийского и аполлонийского начал.
Теория
В XIX веке в Германии господствовала классическая модель понимания культуры. От Гердера, Канта, Гегеля и Фихте она унаследовала историзм, рационализм и известный гуманизм. Ницше в своем произведении отказывается от рационалистических воззрений, представляя нам свои положения через метафоры.
По Ницше существует два начала: дионисийское и аполлоническое, представляющие собой неразрывную и почти вечную дихотомию. Начала для него - призма, через которую люди смотрят на искусство и свою действительность. Аполлоническое начало он сравнивает со сном, а дионисийское - с опьянением. Искусства он также делит на те, которые порождены духом Аполлона и духом Диониса. К первым он относит скульптуру, живопись, архитектуру, а ко вторым - музыку. Что это все значит?
Изначально существовал мир Диониса, где человек был вынужден постоянно встречаться непосредственно с леденящими душу ужасами мира. Неудовлетворенный угнетенностью своего пребывания, человек развил в себе аполлоническое начало, выраженное в стремлении к порядку. Из этого, по мнению Фридриха Ницше, возник древнегреческий пантеон.
По Ницше существует два начала: дионисийское и аполлоническое, представляющие собой неразрывную и почти вечную дихотомию. Начала для него - призма, через которую люди смотрят на искусство и свою действительность. Аполлоническое начало он сравнивает со сном, а дионисийское - с опьянением. Искусства он также делит на те, которые порождены духом Аполлона и духом Диониса. К первым он относит скульптуру, живопись, архитектуру, а ко вторым - музыку. Что это все значит?
Изначально существовал мир Диониса, где человек был вынужден постоянно встречаться непосредственно с леденящими душу ужасами мира. Неудовлетворенный угнетенностью своего пребывания, человек развил в себе аполлоническое начало, выраженное в стремлении к порядку. Из этого, по мнению Фридриха Ницше, возник древнегреческий пантеон.
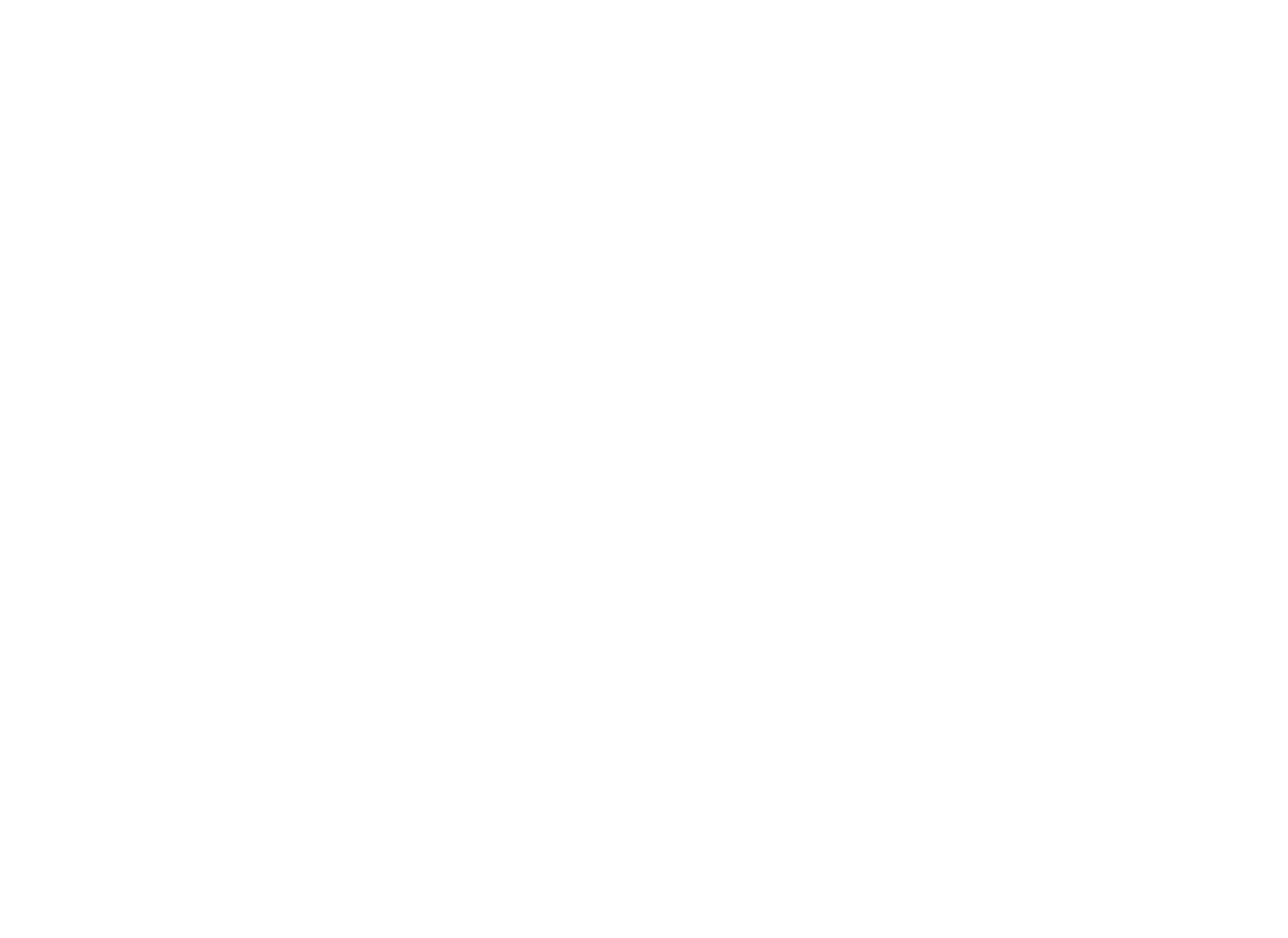
Дионисийское начало - опьянение (любое экстатическое переживание), в котором у человека размываются все границы. "В пении и пляске являет себя человек сочленом более высокой общины: он разучился ходить и говорить и готов в пляске взлететь в воздушные выси". Ведь Дионис - это бог безумства, стирающий иерархии и грани, открывающий хаос природы, хтонь мира. Под таким началом человек отчуждается от себя, деиндивидуализируется.
Человек больше не художник, он само художество, которое через себя являет художественную мощь природы.
Человек больше не художник, он само художество, которое через себя являет художественную мощь природы.
“
В дионисическом опьянении и мистическом самоотчуждении, одинокий, где-нибудь в стороне от безумствующих и носящихся хоров, падает он, и вот аполлоническим воздействием сна ему открывается его собственное состояние, т. е. его единство с внутренней первоосновой мира в символическом подобии сновидения.
В отличие от Диониса, аполлонический сон субъектно-действителен. Он защищает человека от трагедии жизни, стремится успокоить нашу природу через иллюзии, облаченные в материальную форму. Это некоторый занавес, который как бы смягчает наше отношение к миру.
Повторяясь, отметим, что дионисийское и аполлоническое начала всегда находятся в диалоге и незримо присутствуют в нашем мире. Абстрактная скульптура или скульптура, изображающая, например, смерть, хоть и является аполлонической по своей форме, по наполнению скорее дионисическая. Пропорции дионисического и аполлонического есть в каждом человеческом движении.
Повторяясь, отметим, что дионисийское и аполлоническое начала всегда находятся в диалоге и незримо присутствуют в нашем мире. Абстрактная скульптура или скульптура, изображающая, например, смерть, хоть и является аполлонической по своей форме, по наполнению скорее дионисическая. Пропорции дионисического и аполлонического есть в каждом человеческом движении.
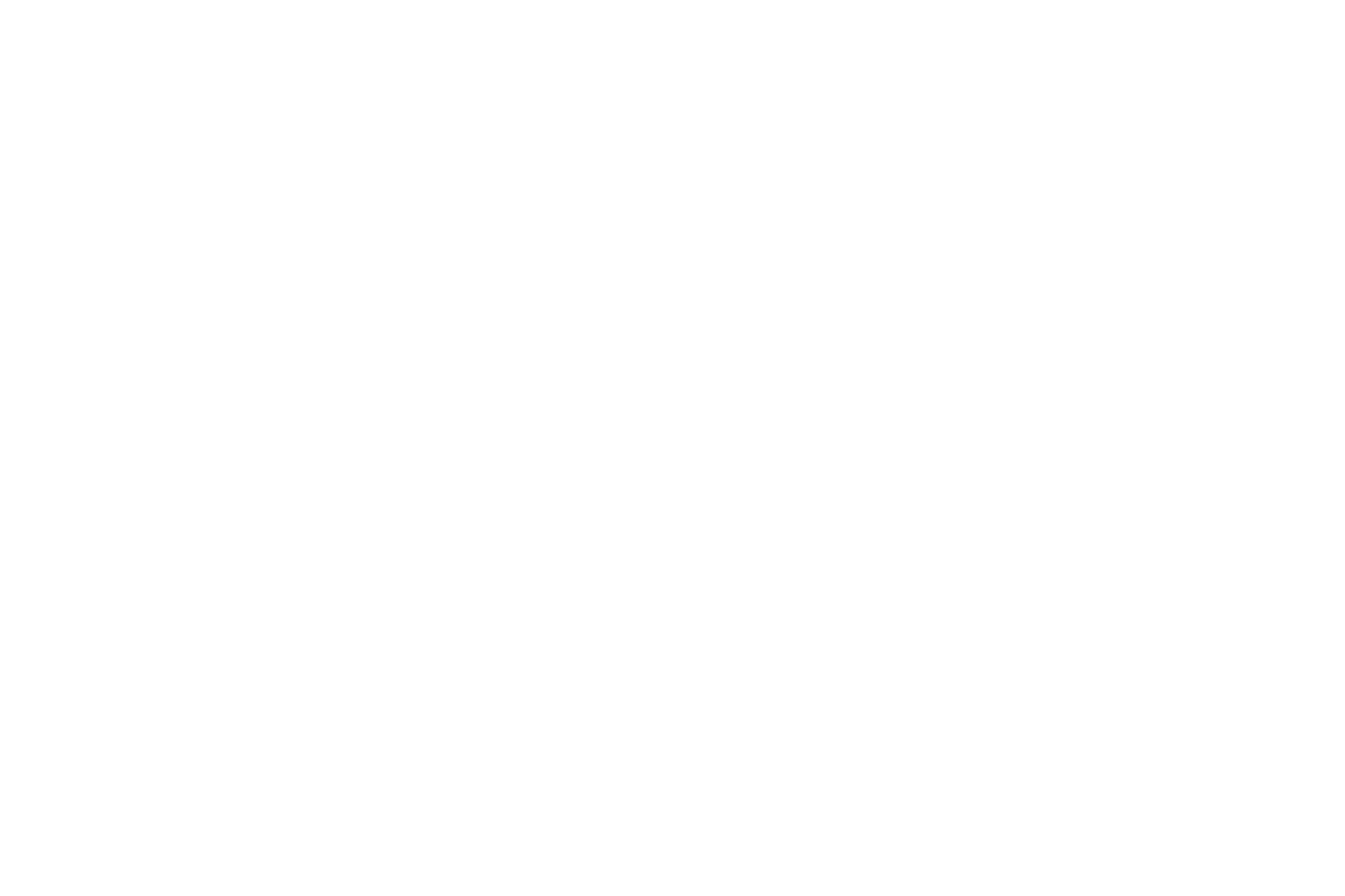
Искусство
Как же рождается искусство? Когда человек выходит из зоны комфорта, как мы сказали бы сегодня, когда он сталкивается с сильным страданием или другим потрясением, природа может его посетить, создать некоторую пульсацию души. Из нее посредством успокаивающего аполлонического начала художник сможет оформить свое произведение. Иначе говоря, человек сперва сливается со своей безудержной природой, встретившись с ней, бежит в мир иллюзий, где и создает творчество. Дионис создает идею, а Аполлон ее обрамляет.
"Свою субъективность художник сложил уже с себя в дионисическом процессе; картина, которая являет ему теперь его единство с сердцем мира, есть сонная греза, воплощающая как изначальное противоречие и изначальную скорбь, так и изначальную радость иллюзии". Творца и произведение можно трактовать предельно широко. Жизнь тоже можно рассматривать как художественное произведение.
"Свою субъективность художник сложил уже с себя в дионисическом процессе; картина, которая являет ему теперь его единство с сердцем мира, есть сонная греза, воплощающая как изначальное противоречие и изначальную скорбь, так и изначальную радость иллюзии". Творца и произведение можно трактовать предельно широко. Жизнь тоже можно рассматривать как художественное произведение.
“
На процесс своего поэтического творчества пролил свет Шиллер в одном ему самому необъяснимом, но, по видимому, не вызывающем у него сомнений психологическом наблюдении: он признается именно, что в подготовительном к акту поэтического творчества состоянии не имел в себе и перед собою чего-либо похожего на ряд картин со стройной причинной связью мыслей, но скорее некоторое музыкальное настроение (Ощущение у меня вначале является без определённого и ясного предмета; таковой образуется лишь впоследствии. Некоторый музыкальный строй души предваряет всё, и лишь за ним следует у меня поэтическая идея).
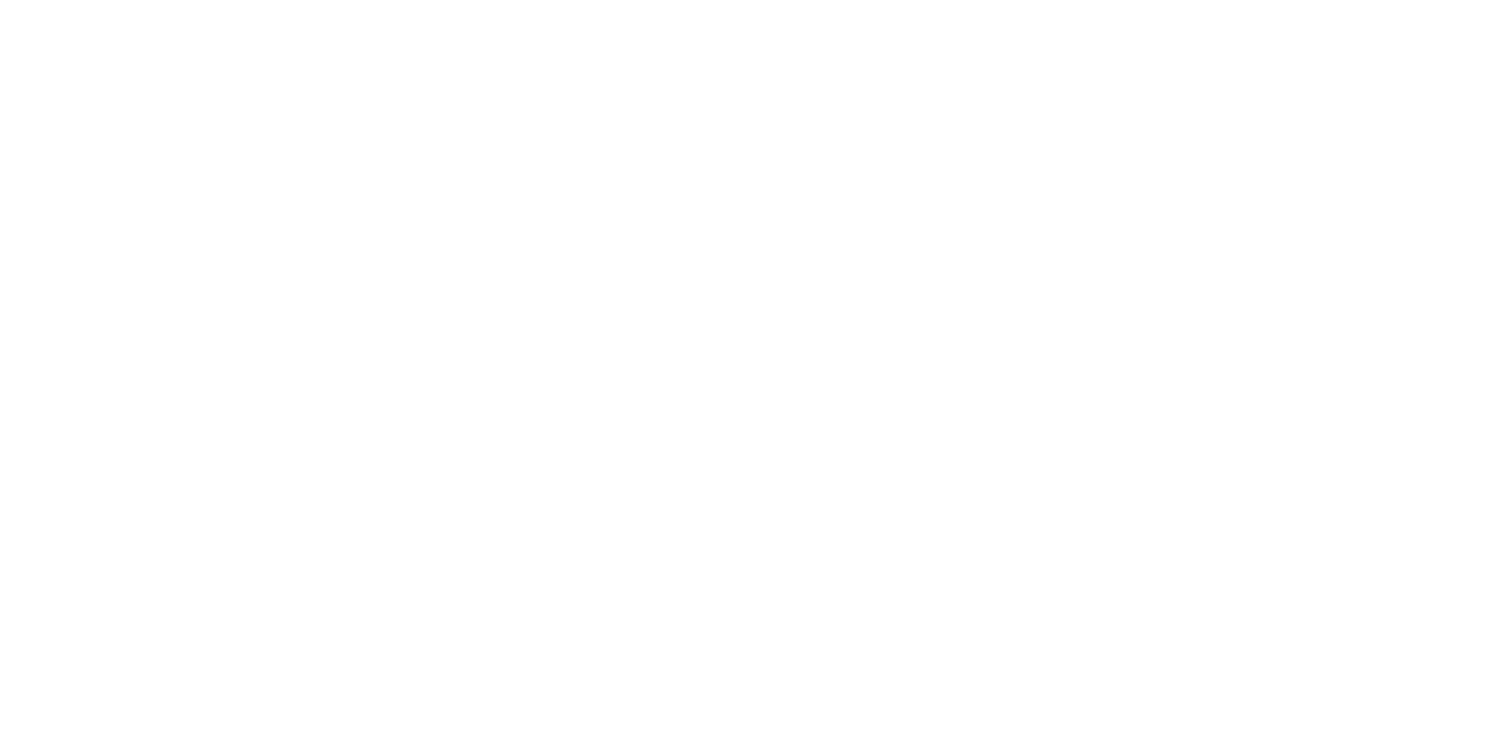
1
Мир изначально - океан Диониса
2
А аполлоническое начало в нем - небольшой остров
3
А человек - проводник этих начал, игрушка в руках богов, который всего лишь исполняет их волю
Для Ницше фигура автора становится не такой важной. Эту идею, кстати, подхватили, символисты. Для них важны не авторы, а произведения. Фигура автора не так важна, если ты думаешь, что через него действует энергия Диониса, если считаешь, что человек лишь улавливает вечные образы. Из этого настоящее искусство по Ницше - это то, что нельзя исчерпать, которое вне времени.
Русский символизм
Если говорить про то, как идеи Ницше проникали в русскую литературу, то нам следует обратить внимание на кризис социально-реалистической прозы во второй половине XIX века. Идеи социальной причинности характеров были так сильно развиты, что новому поколению литераторов они казались уже избитыми и скучными. К тому же в это самое время в Европе под знаменами иррациональной философии возрастают идеи индивидуализма и фатализма, выраженные преимущественно в идеях Шопенгауэра и Ницше.
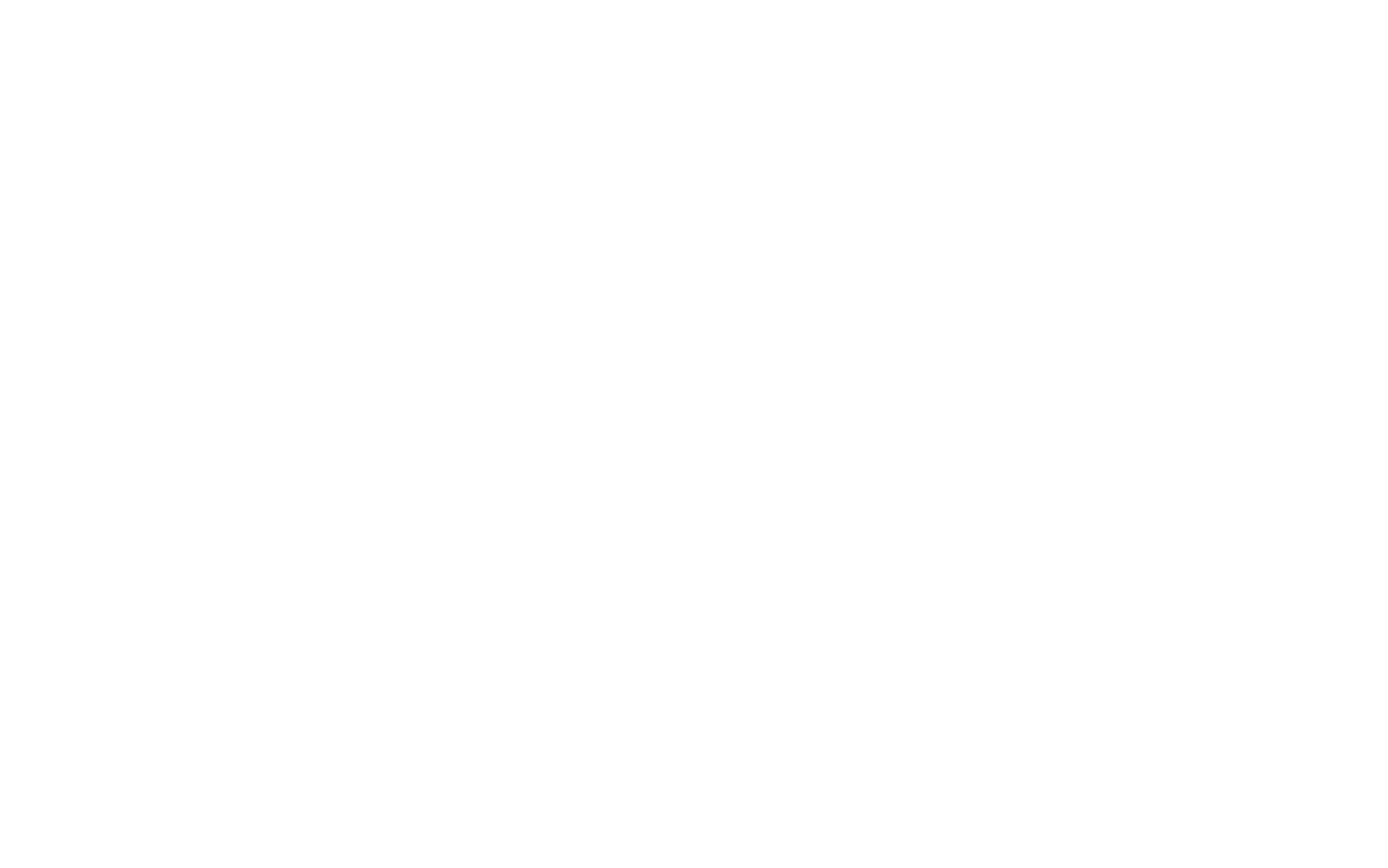
Федор Достоевский
Здесь интересно взаимовлияние Ницше и русской литературы, ведь известно, что Ницше читал Достоевского. Так он пишет о впечатлениях от встречи с романами Федора Михайловича:
“
Достоевский принадлежит к самым счастливым открытиям в моей жизни...
Однако, вопреки многим спекуляциям, влияние Достоевского на "Так говорил Заратустра" найти невозможно, потому что впервые в дневниках Ницше писатель появляется только в 1887, а роман был опубликован уже в 1885.
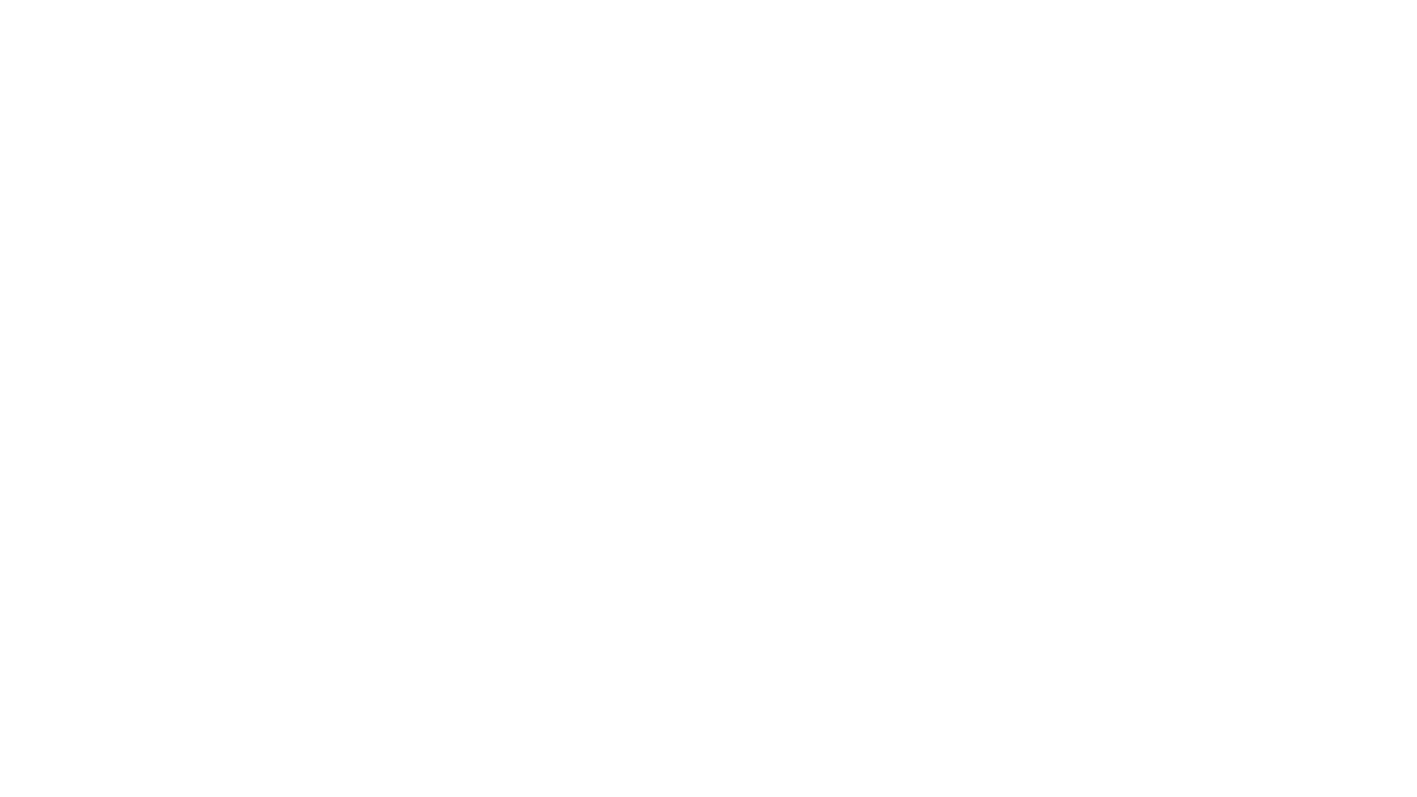
Но вернемся к "Рождению трагедии". Заметим, что влияние ницшеанства на русскую литературу было ограничено большим консерватизмом некоторых классических писателей и философов, которые считали эти идеи антигосударственными, а также избирательностью перенятых идей. Это в первую очередь глубокий индивидуализм, граничащий с самообожествлением творца как транслятора дионисийского начала.
Первым проповедником ницшеанских идей можно считать Дмитрия Сергеевича Мережковского. Идеи об идеальном искусстве как о слиянии начал Диониса и Аполлона проявились в идеях Третьего Завета, который характеризуется в свою очередь единством духа и плоти.
Первым проповедником ницшеанских идей можно считать Дмитрия Сергеевича Мережковского. Идеи об идеальном искусстве как о слиянии начал Диониса и Аполлона проявились в идеях Третьего Завета, который характеризуется в свою очередь единством духа и плоти.
“
Всем существом он {Мережковский} ницшеанец, был, есть и будет.
Символисты оказались наиболее подвержены влиянию Фридриха Ницше. Кто-то (как Бальмонт) больше тяготел к его эстетическим теоретическим воззрениям, кто-то (как Брюсов) увлекался индивидуализмом, противопоставлением себя обществу. Однако важно сказать, что все эти идеи на русской почве очень сильно трансформировались, где-то смягчаясь, а где-то изменялись до неузнаваемости. К примеру младосимволисты часто своим отцом называли философа-мистика Владимира Соловьева, который несознательно стал проводником идей Ницше, хоть сам и отрицал его значимость.
Но важно отметить, что для символистов Ницше в первую очередь был не теоретиком символизма, а практиком. Их куда больше волновали метафоры философа о рождении трагедии, чем сами размышления. Что неудивительно, ведь образность и слог Ницше - одни из важнейших столпов его мысли.
Но важно отметить, что для символистов Ницше в первую очередь был не теоретиком символизма, а практиком. Их куда больше волновали метафоры философа о рождении трагедии, чем сами размышления. Что неудивительно, ведь образность и слог Ницше - одни из важнейших столпов его мысли.
“
С осени 1899 года я живу Ницше; он есть мой отдых, мои интимные минуты, когда я отстранив учебники и отстранив философии, всецело отдаюсь его интимным подглядам, его фразе, его стилю, его слогу; в афоризме его вижу предел овладения умением символизировать: удивительная музыкальность меня, музыканта в душе, полоняет без остатка.
Современный мир
Объект искусства должен быть вечен, без всевозможного исторического контекста. Так что не любое чувственное абстрактное искусство может считаться таковым для философа. "Черный квадрат" - принципиально аполлоническое произведение, потому что оно не существует без манифестов Малевича и начала ХХ века.
Продолжая экстраполяцию идей Ницше на современность, можно сказать, что и постмодернистская литература не является искусством. Если произведение признает свою вторичность и использование готовых форм, то здесь нету места для Диониса и его хтоническому безрассудству. Взгляд постмодерниста - это чисто аполлонический взгляд, человека, который сублимирует форму, а не пытается отдаться своей природе.
Ницше дает современной ему цивилизации грустную оценку. Она поглощена аполлоническим началом до самого своего основания. И она является бичом культуры. Сегодня это выражается с массовизацией общества, а также с коммерциализацией искусства. Моргенштерн, Бритни Спирс, Асап Роки - все это примеры влияния Аполлона. Это не искусство, это продукты, которые создаются в студиях, эксплуатирующие образы популярной культуры, направленные на массы. Но все-таки не все потеряно. Ведь в этой вечной дихотомии всегда за одним началом приходит другое, значит, нам, кажется, предстоит встретиться с Дионисом. Бурным и беспощадным, но таким притягательным.
Продолжая экстраполяцию идей Ницше на современность, можно сказать, что и постмодернистская литература не является искусством. Если произведение признает свою вторичность и использование готовых форм, то здесь нету места для Диониса и его хтоническому безрассудству. Взгляд постмодерниста - это чисто аполлонический взгляд, человека, который сублимирует форму, а не пытается отдаться своей природе.
Ницше дает современной ему цивилизации грустную оценку. Она поглощена аполлоническим началом до самого своего основания. И она является бичом культуры. Сегодня это выражается с массовизацией общества, а также с коммерциализацией искусства. Моргенштерн, Бритни Спирс, Асап Роки - все это примеры влияния Аполлона. Это не искусство, это продукты, которые создаются в студиях, эксплуатирующие образы популярной культуры, направленные на массы. Но все-таки не все потеряно. Ведь в этой вечной дихотомии всегда за одним началом приходит другое, значит, нам, кажется, предстоит встретиться с Дионисом. Бурным и беспощадным, но таким притягательным.
